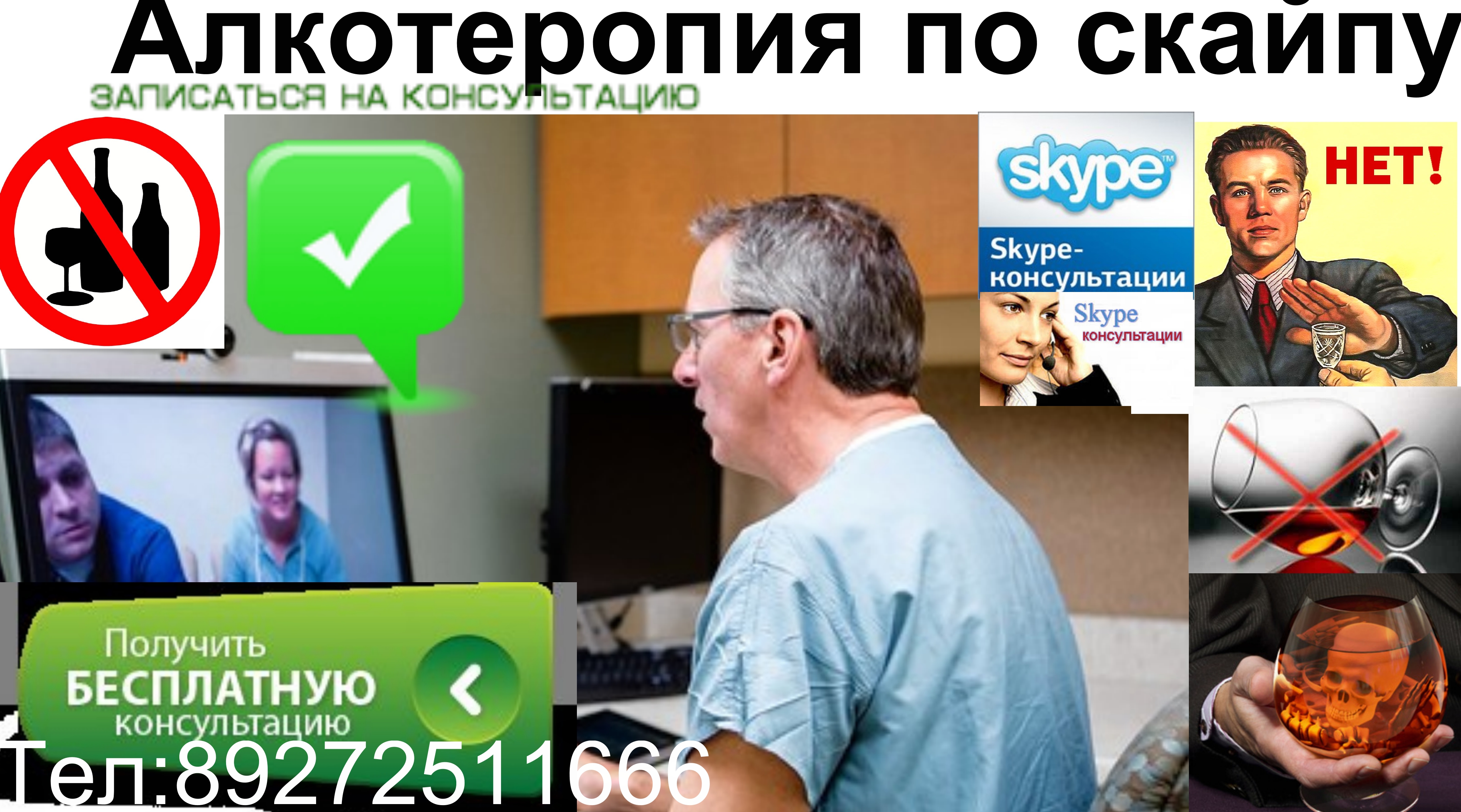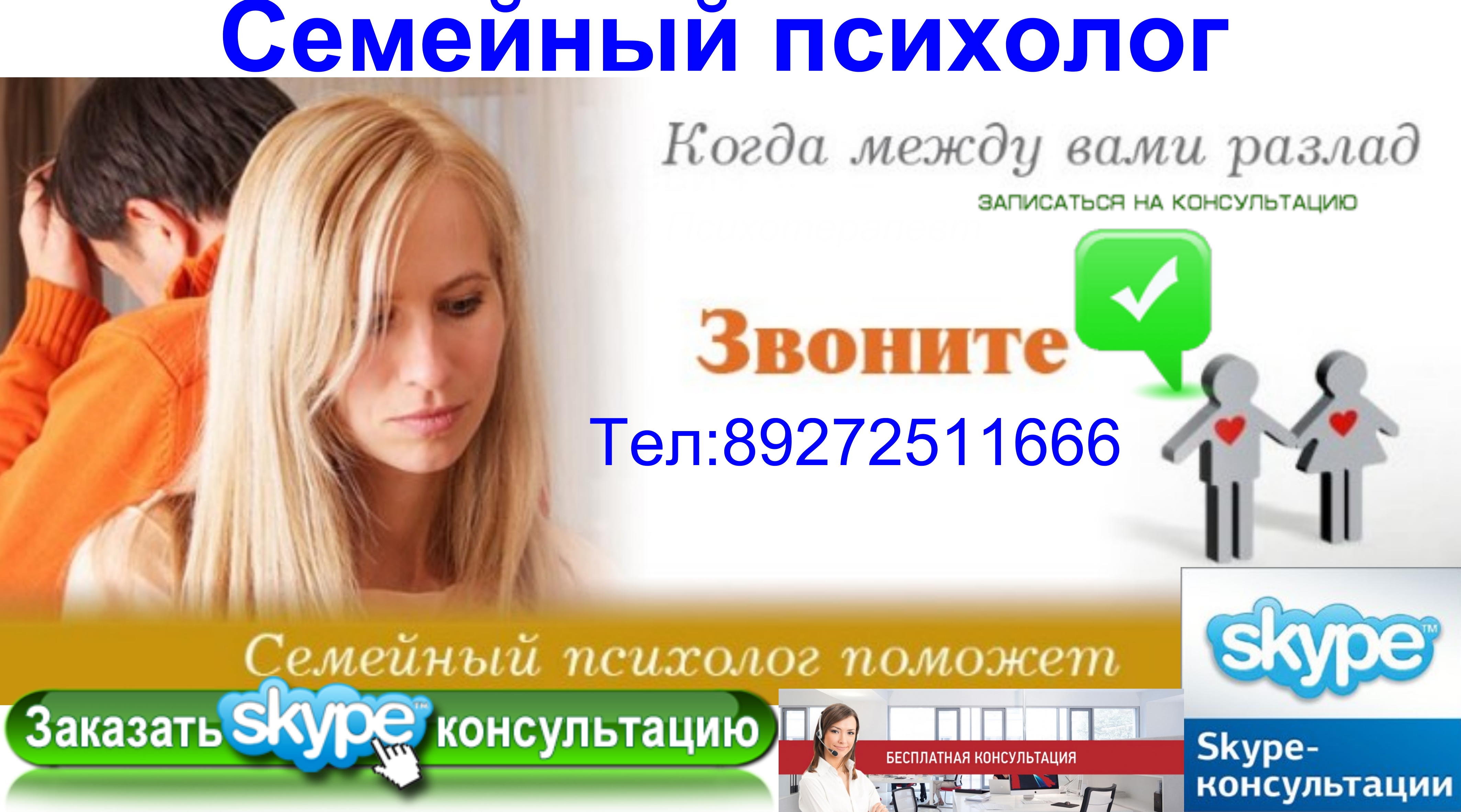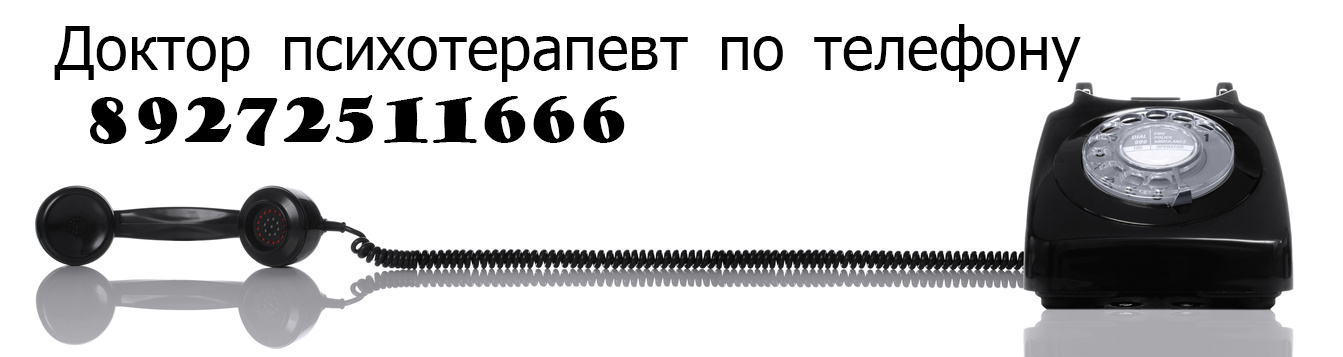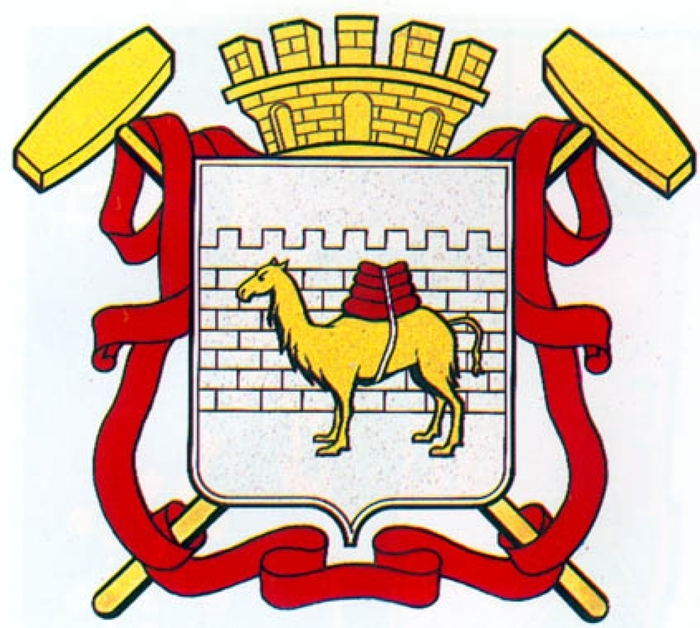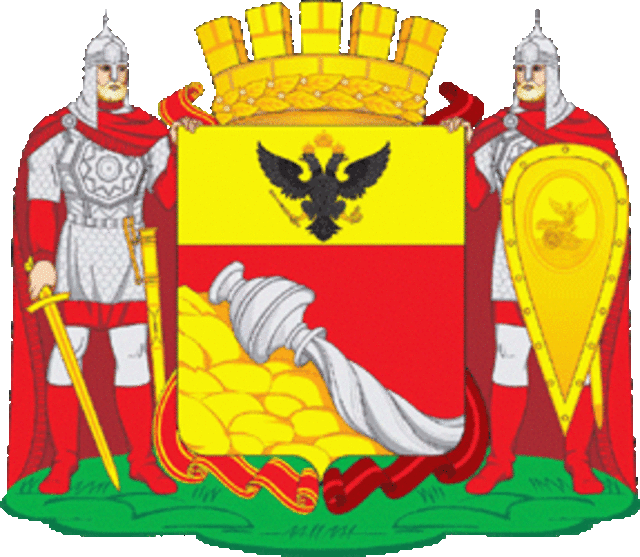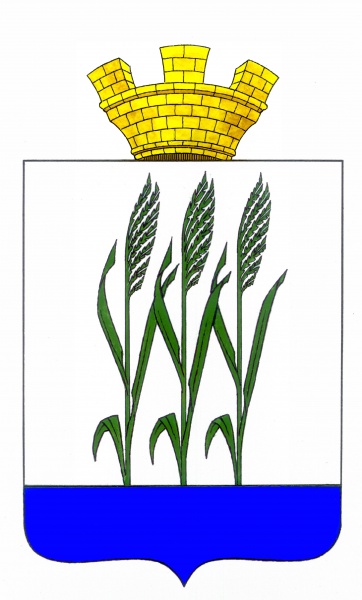Уважаемые коллеги!
Свое выступление я хотел бы начать с рассказа о двух случаях, которые помогли мне сформировать нынешний взгляд на происходящее в аналитической терапии. Первый из них был в известном смысле забавным. Когда я начинал свой второй анализ, я был идеальным анализантом. Как известно, идеальный анализант свободно излагает все, что ему приходит в голову. Я делал это без умолку до тех пор, пока мой аналитик не остановил меня. Он сказал: «Хватит. Замолчите. Давайте учиться молчать». Я не понимал, что происходит. Это было странное чувство. Говорение ассоциировалось у меня с усилиями пловца, который в штормящем море должен добраться до чуть видного в тумане берега. Теперь я тонул. Я ощущал себя все глубже уходящим во мрак – от дневного света, от реальности. Потом я коснулся дна и понял, что способен видеть в этом мраке и дышать под водой. И перед моими глазами стали возникать удивительные вещи, которые я не смог бы заметить, продолжая плыть к берегу. Позднее я рассказывал о них аналитику. Я видел древний корабль, разбившийся в этом море о скалы тысячу лет назад, и я вернулся на эту тысячу лет, и наблюдал, как он шел по морю, и узнавал историю человека, плывшего под его парусом. Эти образы открыли мне затем – с помощью аналитика – поразительно многое в моей личной истории. Это было пять лет назад.
Второй случай произошел два года спустя. Мой пациент говорил об отце, бросившем семью. Отец не подавал о себе вестей много лет. Однако на совершеннолетие сына он прислал письмо. Это была просьба о прощении. Пациент рассказывал об этом событии с ироничным недоумением. Никогда и ни в чем он не винил отца. «Как Вы думаете, — спросил я, — почему письмо пришло именно к этой дате?» Пациент ничего не ответил, и наступило молчание. Минут через десять я попытался прервать тишину. Едва я открыл рот, пациент остановил меня. «Не надо, — сказал он, — что-то происходит». Больше до конца сессии никто из нас не произнес ни слова. И в течение всего этого времени я чувствовал, как обоих нас постепенно оставляет странное внутреннее напряжение. Я не понимал, каким образом, но мог бы поклясться, что это ощущение пациента передавалось мне. Впоследствии он рассказал, что все это время мысленно говорил с отцом. Много лет он не обвинял его, не отдавая себе в этом отчета. Здесь, на кушетке, он впервые почувствовал себя достаточно взрослым для того, чтобы прощать.
Как вы помните, метод свободных ассоциаций возник, когда пациентка остановила Фрейда, попытавшегося нарушить свободное течение ее монолога. Я мог бы сказать, что мой пациент навел меня на мысль о методике – если можно так выразиться – свободного молчания. Что происходит в терапевтическом кабинете в минуты, когда наступает тишина?
Речь пациента несет информацию. Молчание выглядит неинформативным, но – только на первый взгляд. Иногда его смысл начинает ощущаться предельно остро, а заключенные в нем чувства – восприниматься более ясно, чем если бы о них говорилось вслух. Люди, находящиеся рядом друг с другом, могут подолгу молчать, выражая тоску перед расставанием, счастье – при встрече, горе – при получении трагического известия. Слова в этих ситуациях могут немногое, и тогда начинаешь понимать, что вербально доносимая информация искажена словом. Если мы рассматриваем анализ как терапию коммуникацией, а не только интерпретациями бессознательного, всплывающего в речевом материале, то нельзя забывать, что молчание – такой же компонент взаимодействия, как и речь.
Мой практический опыт позволяет сказать: содержание молчания может быть услышано так же, как содержание речи, а в некоторых случаях и яснее. Я не знаю, как это происходит, но это происходит. Молчание может иметь много смыслов и аффективных оттенков. Оно может быть тревожное, агрессивное, одеревенелое – когда пациент зажимает в себе нечто, — расслабленное, усталое, комфортное. Молчащий человек может быть обессиленным, спящим, мертвым, спрятавшимся от опасности, затаившимся в засаде и т.д. Все это – реактивации когда-то имевших место в его истории эмоционально-телесных состояний. Возможно, некая информация передается и воспринимается через ритм дыхания собеседника, через его позу, через иные невербальные проявления. Колоссальную роль здесь играют, на мой взгляд, эмпатийные способности и интуиция терапевта. Не исключено, что эти процессы просто нуждаются в дальнейшем исследовании, что не все в них может быть объяснено с платформы современного знания – как, например, не объяснены до конца свойства человеческого взгляда. Мы знаем, что взглядом можно разбудить спящего, что можно ощутить взгляд в спину, но как это происходит, едва ли известно. Во всяком случае, я предполагаю, что подобные коммуникации заключают в себе наследие самого раннего невербального диалога «мать — младенец» — диалога той стадии, на которой мать ощущает своего ребенка как психосоматическое продолжение самой себя.
Если подобная эмпатийная связь установлена, молчание делается экраном для проецирования фантазий терапевта. В условиях частичного и временного растворения границ, слияния объекта и самости эти фантазии есть продукт психической реальности пациента. Позвольте привести следующий пример. Моя пациентка в последние минуты сессии начинала быстро и много говорить, словно торопилась вместить в них все, что еще могло бы стать темой обсуждения. Когда я обратил на это ее внимание, она сказала: «Вы всегда так неожиданно объявляете, что время закончилось. Вы обрываете меня на полуслове. Я вся сжимаюсь, думая, что вот-вот это произойдет. Я тороплюсь, потому что не успею договорить. Я боюсь забыть до следующей встречи то, о чем не успела сказать. Может быть, Вы могли бы напоминать мне…» — Все это звучало в той же ускоренной манере, с нотками отчаяния. В это время мне ясно представилась картина: человека ведут туда, где с ним произойдет нечто ужасное, и его последняя надежда хотя бы оттянуть этот момент – цепляться за все, что попало под руку, и непрерывно говорить. Стоит ему замолчать, и надежда рухнет. И тут пациентка умолкла и спросила: «Все?»
Я не сказал «да». Я молчал, потому что теперь уже мне хотелось уцепиться за что-то: слово «да» вызывало у меня ассоциацию со смертью. Наступила тишина, и мне представилось, будто пациентка стоит на земле, глядя вверх, а я улетаю, стремительно отдаляясь. Она становилась все меньше, совсем крохотной, и превращалась из тридцатилетней женщины в девочку лет четырех-пяти. Прошло несколько минут, и я наконец сказал: «Был страх, было отчаяние, была надежда. Теперь – только бессилие и безысходность». После паузы она отозвалась: «Я не могу встать. Конечности словно ватные, они не слушаются меня». На следующий сессии, вспоминая это состояние, она сказала: «В те минуты я увидела себя утром в детском садике, когда надо было непрестанно говорить что-то маме – пока она слушала меня, она не могла уйти. Но потом она уходила все равно, и я просто садилась на пол и понимала, что это — конец». И чуть позднее добавила: «Когда вы промолчали в ответ на мой вопрос, я, наверное, впервые спросила себя: что чувствовала мама, когда ей было пора меня оставлять?»
Приведенный мною пример иллюстрирует два аспекта того, что происходит в молчании: коммуникативный и внутренний, то есть аспект диалога с самим собой. Несколько слов об этом диалоге. В повседневной жизни мы ориентированы преимущественно на окружающую реальность. Разум связывает нас с нею. Наша речь строится с помощью разума и обеспечивает нам подавляющее большинство коммуникаций. При этом, как я уже говорил, речь всегда искажает происходящее в нас; недаром сказано – слово изреченное есть ложь. Пациент говорит нам, что испытал страх в той или иной ситуации – и этим не сообщает ничего, потому что мы воспринимаем слово через призму собственного эмоционально-телесного состояния, ассоциирующегося у нас с понятием страха. Пациент говорит взахлеб, перескакивая с темы на тему – и мы вдруг ощущаем предельно ясно, что он изо всех сил держится за словесный взаимообмен с реальным собеседником, чтобы не остаться наедине с собой, со своим внутренним миром. Молчащий человек приближается к себе – внутреннему. Молчание можно уподобить сну, разговор – пробуждению. Сон может быть кошмарным, но анализ не должен обходить кошмары стороной.
Когда мой аналитик предложил мне попробовать молчать, я, вероятно, от растерянности произнес глупейшую фразу: «Молчать я мог бы и дома – бесплатно». На это последовал бы ответ: «Если бы это было так, Вы не пришли бы сюда». И я вскоре осознал, насколько эти слова были верны. Мы редко способны в обыденной жизни к диалогу с собой: мы сопротивляемся ему, цепляясь сознанием за множество элементов внешней реальности. Сон – одно из немногих состояний, в которых этот диалог происходит, и мы знаем, сколь большую роль играют сновидения в поддержании нашего психического баланса: как говорится, мы спим, чтобы видеть сны. Молчание в аналитической ситуации – это совместный сон пациента и терапевта; сон, в котором терапевт принимает непосредственное участие. Именно в тишине, а не во время говорения, в человеке что-то начинает происходить, меняться. Если пациент не позволяет себе помолчать в уединении, например, после того, как прозвучала интерпретация – трудно ожидать, что он даст интерпретации коснуться чего-то в своей душе.
Как правило, инструктируя пациента, терапевт предлагает ему говорить без отбора все, что будет приходить в голову. Таким образом, он создает то, что я называю «расщеплением Суперэго». Суперэго несет ответственность за цензуру мыслей и слов, однако требование терапевта формирует в его структуре новый интроект, противоречащий прежним. Конфликт требований в принципе неразрешим. Поэтому Анна Фрейд, говоря о невозможности следования основному правилу анализа, подчеркивала, что нас интересует не выполнение правила, а именно связанный с ним конфликт. Я предполагаю, что этот конфликт не является единственно возможным путем к бессознательному. Начиная работу, я обычно сообщаю пациенту: «Вы можете говорить здесь все, что хотите», то есть не обращаюсь к его Суперэго. Это и есть первый шаг к терапевтичному молчанию. Если пациент говорит, что ему ничего не приходит в голову или что он не хочет сегодня говорить ни о чем, я предлагаю ему просто побыть вместе и помолчать.
Молчание дается пациенту с трудом всегда, даже если терапевт предлагает ему такую возможность. Поначалу оно выглядит чем-то не вполне естественным, и не только потому, что пациент информирован об основном правиле анализа. Затянувшуюся паузу он переживает как ослабление связи с реальностью, говорение – как возобновление этой связи. Он судорожно перебирает темы, ища, что сказать, или говорит о чем угодно с целью заполнить пугающее безмолвие. В этих условиях задача терапевта – сделать тишину в кабинете нетравматичной, комфортной. Все мы знаем, как непросто бывает подвести пациента к возможности свободного ассоциирования, — иногда обретение такой возможности само по себе означает близость успешного окончания работы, — но редко задумываемся о том, что порой еще труднее бывает научить его свободно молчать. Его ассоциации не станут подлинно свободными до тех пор, пока он не окажется способен к нетравматичному молчанию наедине с терапевтом и с самим собой. Коммуникация складывается из двух компонентов, и она не может быть свободной только в одном из них, а во втором – стесненной. Апеллируя к своему прошлогоднему докладу на Летней Школе, я мог бы обозначить этот процесс как превращение одиночества в уединение.
Когда в кабинете наступает тишина, я стараюсь не делать ничего: не думаю о чем-то целенаправленно и даже не пытаюсь сразу ответить себе на вопрос, почему пациент замолчал. Я слушаю тишину и собственные ощущения, которые она рождает во мне; если через какое-то время мне начинает казаться, что я могу интерпретировать происходящее, я делаю это; например, говорю пациенту: «Кажется, мы сейчас отдалились друг от друга», или: «В этом молчании есть какое-то напряжение, как при опасности». После этих слов нередко появляется возможность обсудить прошлые эмоциональные состояния, которые были реактивированы «здесь и сейчас».
Однажды пациент рассказал мне, как играл в детстве с котенком. Котенок спрятался от него под диван и, несмотря на все попытки выманить его, забивался все глубже. После этого пациент замолчал и сказал: «Странно. Все мысли куда-то разбежались, и я не знаю, о чем теперь говорить. Не спросите ли Вы меня о чем-нибудь?» — «Да, — отвечал я. – Скажите, что нужно было сделать, чтобы котенок сам вышел из-под дивана?» — «Наверное, прекратить пробовать достать его, — сказал пациент, — отвернуться, отойти в сторону». – «Наверное, да, — сказал я, — и что-то, что Вы пытаетесь сейчас извлечь, очень похоже на этого котенка. Говорение ради говорения нам не нужно; послушаем тишину, и может быть в ней произойдет нечто такое, о чем Вы вдруг захотите рассказать». Через десять минут я заметил, что по лицу пациента текут слезы. Он вспомнил то, что последовало за рассказанным эпизодом: когда он дотянулся наконец до котенка, тот больно укусил его. Он побежал к маме, чтобы пожаловаться, но мать не поверила, что такой укус может быть болезненным, назвала его вруном и прогнала от себя.
Разумеется, молчание не всегда следует поддерживать. Особой осторожности его использование требует в работе с шизоидами, с больными психотического уровня, во многих случаях депрессии. Есть пациенты, для которых молчание становится разрушительным; которые в принципе не могут его выносить. Это люди с внутренней пустотой. Заглядывая в себя, они обнаруживают там лишь, по определению одного из них, «бесконечную черную яму». Об этих больных я писал в статье «Цивилизация и болезни одиночества». Они способны ощущать себя только в непосредственном контакте с внешней реальностью – например, в вербальном диалоге с терапевтом. Согласно моему опыту, определить ситуацию разрушающего молчания бывает возможно с помощью контрпереноса. Терапевт испытывает в ней сильную необъяснимую тревогу, или неприятные телесные ощущения в горле и груди. То, что эти реакции не есть следствие сугубо моей субъективности, неоднократно подтверждалось в ходе супервизий и общения с коллегами. Похожее наблюдается в контрпереносе при разговоре с пациентом, который сообщает о суицидных намерениях всерьез, а не с целью манипуляции. В таких случаях поддерживать длительное молчание нельзя, и допустимая длина пауз должна составлять, на мой взгляд, не более 3-5 минут. В дальнейшем, по мере того как пациент заполняет пустоту и обретает опору в себе, эти периоды могут удлиняться, хотя идти к подобным изменениям приходится, как правило, не один год.
Я хотел бы подчеркнуть, что терапевтический процесс не ограничивается 45 минутами каждой сессии или общей суммой часов, проведенных пациентом в кабинете. Он продолжается и тогда, когда пациент расстается с терапевтом до следующей встречи и когда ведет с ним мысленные диалоги, которые – в сущности – есть диалоги с внутренним терапевтом, с самим собой. Эти диалоги проходят в молчании. Еще раз повторю, что именно в молчании, а не в процессе говорения, в психике человека происходят целительные метаморфозы: переживание инсайта, оплакивание, покаяние, прощение и т.п.
В заключение замечу, что достижение способности комфортно молчать в присутствии терапевта может, на мой взгляд, рассматриваться как один из важнейших критериев завершенности терапии – наряду с такими, как устойчивость эдипальных отношений в переносе, преодоление фазы негативизма, интернализация аналитических функций и другими. Эта способность подразумевает, что пациент достиг определенной степени автономии от фигуры терапевта, определенной степени доверия к собеседнику и возможности диалога с собой, то есть превратил переживание одиночества в уединение.